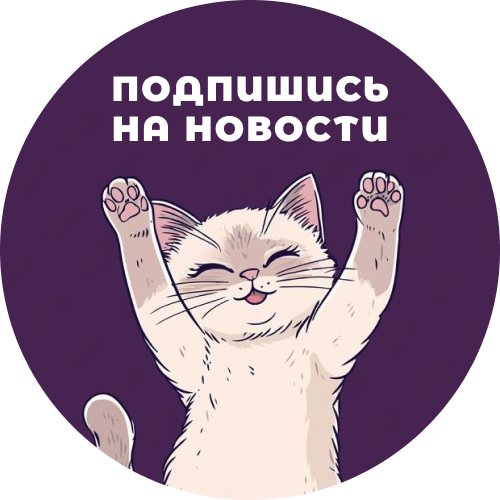Почему у 70 % управляющих компаний нет политик устойчивого развития и экологических политик?
Недавно вышла статья Рейтингового агентства «Эксперт», в которой аналитики указали, что подавляющее большинство управляющих компаний не имеют стратегии устойчивого развития и экологических политик. О причинах такого явления в России порассуждаем в нашей колонке.
ESG-трансформация (или иными словами – устойчивое корпоративное управление) – активно набирающий обороты тренд большинства крупных развивающихся компаний. ESG предполагает ответственное отношение к охране окружающей среды, высокую социальную ответственность и такое же качество корпоративного управления.
Наличие систем экологического управления и сопутствующих им документов в настоящее время имеет значение при выдаче кредитов некоторыми банками (процентная ставка может быть привязана к выполнению требований экологической политики, как например в случае выдаче кредита Сбербанком АФК «Система» в 2020 г.). Другой важный случай – зарубежное инвестирование. Институциональные инвесторы менее охотно идут навстречу компаниям с низким ESG-рейтингом.
Чтобы упростить кредитование и получение инвестиций, компании могут внедрять систему экологического менеджмента (ISO 14001), или систему экологического и социального менеджмента на базе Руководства 1 IFC «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями», разработать стратегии устойчивого развития на базе целей устойчивого развития и стандартов (например, ГОСТ Р ИСО 37101-2018).
Почему тем не менее у 70 % управляющих компаний в России нет политик устойчивого развития и экологических политик?
Я бы выделила три причины.
Первое – нередко такие документы носят декларативный характер и не влияют на экологическую политику компании, не улучшают экологический менеджмент. Поэтому их наличие или отсутствие, в отличие от комплаенс-системы, по большому счету ни на что не влияет, в частности, на наличие или отсутствие санкций экологических госорганов, штрафов или исков о компенсации экологического вреда.
Второе – экологическое законодательство практически не стимулирует природопользователей принимать меры по предупреждению негативного воздействия и вреда, в том числе в виде разработки и соблюдения таких политик.
Например, терминологически и сущностно негативное воздействие на окружающую среду и экологический вред до сих пор не разграничены, а возмещение «вреда» законодательно отнесено на стадию правонарушения.
Нередко то, что квалифицируется как экологический вред, является естественным сопутствующим хозяйственной деятельности фактором, который при проектировании был учтен и государственным органам обозначен и еще и ими согласован.
Если законодательный фокус находится на регулятивной стадии правоотношений, на превентивных мерах, направленных на предотвращение вреда, то все законодательство должно смещать акцент на стадию согласования деятельности и путей минимизации ее негативного воздействия еще на этапе проектирования. При таком подходе при разрешении споров о возмещении вреда суды учитывают, вышел ли природопользователь за согласованные ему пределы и какую экологическую политику в целом вел (что сейчас практически не имеет значения).
В текущей ситуации у неискушенной компании-природопользователя нет мотивации разрабатывать экологические политики или стратегии устойчивого развития, т.к. контролирующими органами их наличие/отсутствие и соблюдение/несоблюдение не будет приниматься во внимание.
Третье – при наличии трудностей во взаимодействии с зарубежными компаниями ESG-рейтинги несколько отходят на второй план, т.к. кредитование и инвестиции в текущей обстановке под вопросом.
Несмотря на это, думаю, что ESG-трансформация в текущем году не остановится. Продолжают развиваться запущенные ранее проекты по декарбонизации, а компании, хотя и сокращают расходы на ESG, все же в большинстве пока не отказываются от них полностью. Программные документы (экологические политики и стратегии) важны не только для формирования образа экологически ответственного бизнеса, но и для определения системы ценностей компании. Именно они лежат в основе любой практической работы по снижению экологических рисков и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
Полина Позднякова, эксперт по экологическому праву и комплаенсу, основатель бюро экологического комплаенса FUTUR, автор Telegram-канала «FUTUR ecology»
Почему у 70 % управляющих компаний нет политик устойчивого развития и экологических политик?
Недавно вышла статья Рейтингового агентства «Эксперт», в которой аналитики указали, что подавляющее большинство управляющих компаний не имеют стратегии устойчивого развития и экологических политик. О причинах такого явления в России порассуждаем в нашей колонке.
ESG-трансформация (или иными словами – устойчивое корпоративное управление) – активно набирающий обороты тренд большинства крупных развивающихся компаний. ESG предполагает ответственное отношение к охране окружающей среды, высокую социальную ответственность и такое же качество корпоративного управления.
Наличие систем экологического управления и сопутствующих им документов в настоящее время имеет значение при выдаче кредитов некоторыми банками (процентная ставка может быть привязана к выполнению требований экологической политики, как например в случае выдаче кредита Сбербанком АФК «Система» в 2020 г.). Другой важный случай – зарубежное инвестирование. Институциональные инвесторы менее охотно идут навстречу компаниям с низким ESG-рейтингом.
Чтобы упростить кредитование и получение инвестиций, компании могут внедрять систему экологического менеджмента (ISO 14001), или систему экологического и социального менеджмента на базе Руководства 1 IFC «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями», разработать стратегии устойчивого развития на базе целей устойчивого развития и стандартов (например, ГОСТ Р ИСО 37101-2018).
Почему тем не менее у 70 % управляющих компаний в России нет политик устойчивого развития и экологических политик?
Я бы выделила три причины.
Первое – нередко такие документы носят декларативный характер и не влияют на экологическую политику компании, не улучшают экологический менеджмент. Поэтому их наличие или отсутствие, в отличие от комплаенс-системы, по большому счету ни на что не влияет, в частности, на наличие или отсутствие санкций экологических госорганов, штрафов или исков о компенсации экологического вреда.
Второе – экологическое законодательство практически не стимулирует природопользователей принимать меры по предупреждению негативного воздействия и вреда, в том числе в виде разработки и соблюдения таких политик.
Например, терминологически и сущностно негативное воздействие на окружающую среду и экологический вред до сих пор не разграничены, а возмещение «вреда» законодательно отнесено на стадию правонарушения.
Нередко то, что квалифицируется как экологический вред, является естественным сопутствующим хозяйственной деятельности фактором, который при проектировании был учтен и государственным органам обозначен и еще и ими согласован.
Если законодательный фокус находится на регулятивной стадии правоотношений, на превентивных мерах, направленных на предотвращение вреда, то все законодательство должно смещать акцент на стадию согласования деятельности и путей минимизации ее негативного воздействия еще на этапе проектирования. При таком подходе при разрешении споров о возмещении вреда суды учитывают, вышел ли природопользователь за согласованные ему пределы и какую экологическую политику в целом вел (что сейчас практически не имеет значения).
В текущей ситуации у неискушенной компании-природопользователя нет мотивации разрабатывать экологические политики или стратегии устойчивого развития, т.к. контролирующими органами их наличие/отсутствие и соблюдение/несоблюдение не будет приниматься во внимание.
Третье – при наличии трудностей во взаимодействии с зарубежными компаниями ESG-рейтинги несколько отходят на второй план, т.к. кредитование и инвестиции в текущей обстановке под вопросом.
Несмотря на это, думаю, что ESG-трансформация в текущем году не остановится. Продолжают развиваться запущенные ранее проекты по декарбонизации, а компании, хотя и сокращают расходы на ESG, все же в большинстве пока не отказываются от них полностью. Программные документы (экологические политики и стратегии) важны не только для формирования образа экологически ответственного бизнеса, но и для определения системы ценностей компании. Именно они лежат в основе любой практической работы по снижению экологических рисков и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
Полина Позднякова, эксперт по экологическому праву и комплаенсу, основатель бюро экологического комплаенса FUTUR, автор Telegram-канала «FUTUR ecology»